СТАТЬИ >> ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Формирование «Плана мероприятий по сокращению затрат»
«План мероприятий по сокращению затрат» - документ, определяющий конкретные действия компании по снижению затрат. Каким должен быть данный документ? Кем и как должен данный документ формироваться? Ответам на эти вопросы и посвящена данная статья.
Формирование «Плана мероприятий по сокращению затрат» есть одна из ключевых составляющих «антизатратной» работы. Как подготовить данный документ?
Начнем с рассмотрения формы этого плана. И после того, как определимся с требованиями к его содержанию, станет понятен и путь, который надо проделать при его формировании.
В самом общем виде этот документ может иметь следующую структуру.
|
Наименование мероприятия |
На сокращение какой статьи |
За счет чего достигается эффект |
Содержание мероприятия |
Ответственное лицо |
Стоимость мероприятия |
Планируемый годовой эффект |
Чистый планируемый годовой эффект |
Сроки реализации |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
Мероприятие 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итак, в «Плане мероприятий» должно быть определено:
- По какой статье произойдет снижение затрат после реализации данного мероприятия;
- За счет чего (за счет каких факторов) произойдет снижение затрат. (В самом общем виде можно выделить две группы этих факторов – или мы сокращаем количество потребляемых ресурсов, или мы сокращаем стоимость единицы потребляемых ресурсов);
- Перечень конкретных действий, которые выполняются в рамках мероприятия;
- Ответственное лицо (при этом желательно указать не только лицо, ответственное за выполнение мероприятия в целом, но и лиц, ответственных за выполнение отдельных действий или работ в рамках данного мероприятия);
- Стоимость мероприятия, т.е. какие затраты понесет компания на выполнение данного мероприятия;
- Планируемый годовой эффект (брутто) – сколько компания сэкономит в следующем году, после того, как мероприятие будет реализовано;
- Чистый планируемый годовой эффект – сколько компания сэкономит после реализации мероприятия, с учетом затрат на данное мероприятие;
- Сроки выполнения мероприятия (Очевидно, что эти сроки могут существенно повлиять на получаемый годовой экономический эффект. Одно дело, если нам удастся мероприятие выполнить уже в уходящем году. Тогда весь следующий год будем «снимать пенки» с результатов данного мероприятия. Другое дело, если мероприятие будет выполнено к концу лета следующего года. В этом случае времени для получения экономического эффекта будет совсем немного.)
Как же должна выглядеть логическая «цепочка», лежащая в основе процедуры формирования «Плана мероприятий по сокращению затрат»?
Вроде бы, как это следует из структуры рассмотренной таблицы, вначале должно появиться мероприятие. А далее, исходя из сути мероприятия расписывается перечень выполняемых действий, определяются ответственные лица, считается получаемый эффект и т.д. Но это не совсем так.
Во-первых, предложение по реализации того или иного мероприятия не возникает ниоткуда. Оно имеет вполне определенного автора. Так что еще до того как появится собственно мероприятие должно быть определено ответственное лицо, которое это мероприятие придумает (непосредственно придумает, или это сделают подчиненные данного ответственного лица).
Во-вторых, как говорится, «мысль опережает действие». Т.е сначала ставится цель или формулируется задача, а потом уже для решения этой задачи проектируются какие-то действия. (Именно так, а не наоборот: сначала мы придумаем какое-то действие, а потом ломаем голову – для чего же оно нам необходимо.) В нашем случае вначале должна появиться задача – «сократить такие-то затраты за счет того-то», а потом уже под решение этой задачи мы начинаем придумывать разные мероприятия. Нет, конечно, возможен и обратный вариант. Например, у нас появилась идея провести мероприятие по консервации половины производственного оборудования. А потом уже мы начинаем это мероприятие анализировать и выявлять затраты, которые за счет выполнения данного мероприятия удастся сократить. Вполне допустимое развитие событий. Но более естественным представляется все же такой путь: перед нами стоит задача «сократить затраты на содержание и эксплуатацию оборудования» и для решения этой задачи мы и предлагаем провести мероприятие по консервации части парка оборудования.
Поэтому первым этапом при формировании «Плана мероприятий» должен стать этап постановки задачи.
На данном этапе для каждой статьи, по которой предполагается провести сокращение, необходимо:
1. Определить ответственное лицо, которое будет «генерировать» предложения по сокращению затрат, и способы сокращения затрат, которые будут использованы этим ответственным лицом. (Отметим, что способы сокращения затрат зависят от того фактора, который определяет уровень затрат по данной статье и на который ответственное лицо может оказывать влияние.)
2. Определить плановое значение снижения уровня затрат по данной статье.
Вроде бы, все предельно понятно. Но на практике при выполнении данного этапа неизменно возникают несколько вопросов.
Первый непраздный вопрос:
«Общую величину, например, прямых производственных затрат мы собираемся снизить на 3%. Если считать, что к прямым производственным относятся две статьи затрат - «Основные сырье и материалы» и «Заработная плата основных производственных рабочих», то насколько мы должны снижать затраты по каждой из данных статей?»
В самом деле, можно пойти по пути «равномерного распределения». Тогда и статью «Основные сырье и материалы» мы будем сокращать на 3%, и статью «Заработная плата основных производственных рабочих» тоже будем сокращать на 3%.
Но может быть произведено и «неравномерное распределение»: статью «Основные сырье и материалы» мы будем сокращать на 1,5%, но тогда статью «Заработная плата основных производственных рабочих», чтобы по общей величине прямых затрат выйти на экономию в 3%, надо будет сокращать уже на 8%. (Поскольку в структуре себестоимости материалы оказываются «весомее» заработной платы.)
По какому пути пойти? Допустим, мы принимаем вариант «равномерного распределения»: каждую из статей «режем» на 3%.
И тут же возникает следующий непраздный вопрос:
«А как к такому распределению отнесутся ответственные лица?»
Можно не сомневаться, что часть из них скажет: «По «нашей» статье такой экономии добиться невозможно, в лучшем случае - 1,5%. А недостающую экономию надо переложить на другую статью!» В свою очередь лица, отвечающие за «другую» статью тоже возмутятся: «По «своей» статье обязательного сокращения в 3% мы добьемся. Но почему мы должны брать на себя больше, чтобы компенсировать недостающую экономию по «чужой» статье?» Причем, каждая из сторон будет по-своему права.
Чтобы предотвратить подобные споры и дискуссии (а также успешнее решить ряд последующих организационных вопросов, которые возникнут уже при реализации мероприятий) необходимо создать такие условия, чтобы ответственные лица не только не саботировали «спускаемые сверху» задания по сокращению затрат, но и брали на себя «повышенные обязательства». Иными словами нужна система мотивации. Система мотивации заслуживает отдельного рассмотрения и отдельного разговора, а пока ограничимся следующим важным замечанием. Система мотивации может включать в себя и нематериальные способы мотивации. Но без банальных бонусов и денежных вознаграждений тоже не обойтись. А это значит, что часть эффекта, полученного от выполнения мероприятий по сокращению затрат, должна быть выплачена в виде вознаграждения ответственным лицам. (Причем, как «авторам» этих мероприятий, так и лицам, которые эти мероприятия реализовывали «руками».) Таким образом, к затратам на собственно выполнение мероприятий добавятся затраты в виде вознаграждения ответственным лицам. Иными словами, чистый годовой экономический эффект от реализации мероприятия, уменьшится на величину этого вознаграждения.
Об ответственных лицах мы сказали уже довольно много, в связи с этим возникает третий вопрос:
«А кто будет этими самыми ответственными лицами, которым мы вменяем в обязанности «придумывать» мероприятия по сокращению конкретных статей затрат?»
В самом общем виде ответ на этот вопрос будет звучать так:
«Подготовка предложений по реализации мероприятий, направленных на сокращение конкретных статей затрат, - это обязанность менеджеров:
- которые принимают решения, непосредственно влияющие на величину затрат по данной статье;
- или в подчинении которых находятся подразделения, деятельность которых непосредственно влияет на величину затрат по данной статье».
А для того, чтобы данное правило работало, необходимо иметь так называемую «Матрицу ответственности» (Матрицу «ЦФО - Статьи затрат»), в которой для каждой статьи затрат будет четко определено лицо (или лица), ответственное за сокращение затрат, и указан фактор (способ), воздействуя на который данное лицо (лица) будет сокращать затраты.
Таким образом, для выполнения этапа 1., необходимы следующие организационные предпосылки:
1. Наличие системы мотивации, «заточенной» под сокращение затрат. В т.ч. наличие норматива доли полученного от сокращения затрат экономического эффекта, которая будет направлена на вознаграждение ответственных лиц;
2. Наличие «Матрицы ответственности».
Итак, по итогам этапа 1. менеджерам розданы «наряд-задания» на сокращение затрат. Что делать дальше? Наступает черед этапа 2. – этапа «генерации» мероприятий.
На данном этапе ответственные лица для каждой вмененной им статьи затрат «подбирают» мероприятие (или несколько мероприятий), направленное на сокращение затрат по данной статье.
На этом же этапе может быть проведен предварительный отбор (даже, скорее, отсев) мероприятий. В частности, могут быть сразу же исключены мероприятия:
- со значительными сроками реализации;
- с «вызывающе непристойными» затратами на реализацию;
- которые ранее никогда не реализовывались и в отношении которых нет никакой неясности – как же к ним подступиться.
Какие организационные предпосылки необходимы для успешной реализации данного этапа? Ответ на данный вопрос станет почти очевиден, если мы еще раз внимательно посмотрим на содержание данного этапа. На данном этапе менеджеры делают две вещи:
- «Генерируют» потенциально возможные мероприятия;
- Осуществляют первичный отбор мероприятий.
Сначала, о «генерации» мероприятий.
Конечно же, абсолютно необходимым условием является наличие у менеджеров и их подчиненных знаний в отношении инструментов снижения затрат и навыков в применении этих инструментов.
Однако только лишь наличие у менеджеров знаний и опыта совсем не гарантирует, что предложения в отношении мероприятий по сокращению затрат будут появляться десятками сами собой. Необходимо нечто такое, что «подсказывало» бы менеджерам возможные варианты решений, а из этих вариантов менеджеры бы выбирали подходящие варианты. Этим «нечто» является «Система поиска резервов», которая:
- С одной стороны, выявляет неэффективности в работе компании и отыскивает резервы по сокращению затрат;
- С другой стороны, подбирает мероприятия для устранения неэффективности и мобилизации резервов.
Иными словами, данная система постоянно «сканирует» хозяйственную деятельность предприятия и формирует ответы на два вопроса:
- «Где и в чем мы можем повысить нашу эффективность?»
- «Как мы можем это сделать?»
Что же касается первичного отбора мероприятий, то должны быть сформулированы четкие критерии, на основании которых менеджеры сразу могли бы вести отсев заведомо «глухих» (нежизнеспособных) мероприятий.
Итак, этап 2. реализован. Перечень потенциальных мероприятий сформирован и даже проведен их первичный отсев. Что далее? Далее начинается этап 3., в ходе которого для каждого из предложенных мероприятий определяются как конкретные параметры самого мероприятия, так и эффекта, получаемого от реализации мероприятия.
Напомним, что к параметрам самого мероприятия относятся:
- Перечень выполняемых при реализации мероприятия действий, с указанием ответственных за из выполнение лиц;
- Стоимость ресурсов необходимых для реализации мероприятия (т.е. затраты на реализацию мероприятия);
- Сроки выполнения мероприятия.
Данный перечень параметров есть не что иное, как классический перечень параметров, характеризующих любой проект! Поэтому первым организационным условием для успешной реализации этапа 3. будет наличие у менеджеров знаний и навыков проектного управления.
Второе организационное условие, необходимое для успешной реализации этапа 3., прямо вытекает из необходимости расчета экономического эффекта реализуемых мероприятий. Чтобы расчеты корректными, необходимо:
- Наличие методики (оформленной в виде корпоративного стандарта) расчета экономического эффекта;
- Наличие знаний и навыков (у менеджеров и их подчиненных) по применению данной методики.
Итак, можно считать, что мы получили итоговый вариант «Плана мероприятий по сокращению затрат»?
Нет, пока мы получили только проект данного документа. Для того, чтобы документ поменял свой статус с «проекта» на «утвержденный рабочий вариант», необходимо выполнить еще два этапа.
Этап 4. – этап проведения экспертизы. Назначение данного этапа станет понятным, если задать ряд вопросов и дать на них ответы.
Может ли менеджер, определяя параметры мероприятия, допустить ошибку в расчетах? В частности, ошибиться в определении количества ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, и эффекта, получаемого от реализации мероприятия? Может. Значит, его расчеты нуждаются в полной или частичной проверке.
Можем ли мы допустить, что для реализации всех предложенных мероприятий у компании может не хватить ресурсов?
Можем, значит, желание реализовать предложенные мероприятия надо соотнести с возможностью обеспечить эти мероприятия ресурсами. Самый банальный пример – денежные средства. Чтобы профинансировать выполнение мероприятий, мы должны из текущей операционной деятельности «выдернуть» некую сумму «относительно свободных» денежных средств. Но размер этих средств всегда ограничен. Можно, конечно, прибегнуть к заемным денежным средствам, но и их размер тоже ограничен.
Аналогичная ситуация и с другими видами ресурсов. Например, годовой фонд рабочего времени сотрудников Отдела главного технолога по определению ограничен. К тому же, даже из этого ограниченного фонда большая часть времени уйдет на исполнение своих прямых обязанностей, а вовсе не на технологическое сопровождение мероприятий по сокращению затрат. Поскольку количество ресурсов ограничено, компания вынуждена выбирать наиболее интересные для себя мероприятия, оперируя тремя основными параметрами – необходимые для реализации мероприятия ресурсы, сроки реализации, получаемый эффект.
Таким образом, экспертиза предложений по проведению мероприятий должна включать в себя:
- Проверку корректности рассчитанных параметров мероприятий;
- Отбор наиболее «вкусных» мероприятий.
Собственно, остается последний этап – этап 5., в ходе которого Генеральный директор производит утверждение рабочего варианта «Плана мероприятий».
Резюме:
Формирование «Плана мероприятий по сокращению затрат» проводится в несколько этапов. Последовательность и содержание данных этапов, а также необходимые для их выполнения организационные условия представлены на приведенной ниже схеме.
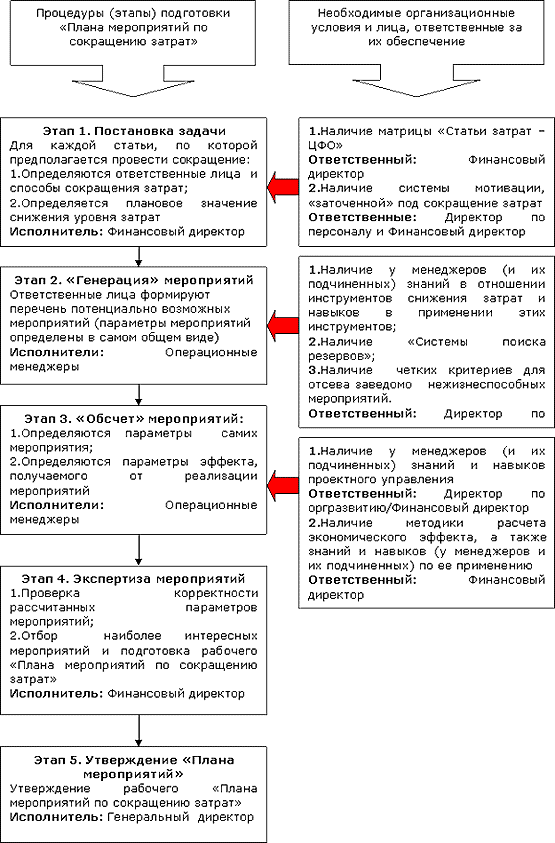
СТАТЬИ >> ЭКОНОМИКА РОССИИ
Две фазы инфляции и споры о ней
Главным итогом второй половины 2009 года в России стало замедление инфляционных процессов, которое, казалось бы, опровергло некоторые выводы, сделанные ИГСО в докладе «Природа глобальной инфляции». В России, ЕС и других странах кризис продемонстрировал не рост потребительских цен, а их некоторое отступление. В связи с этим новую остроту приобретало обсуждение вопросов инфляции и денежного движения. Момент для нового слова в дискуссии складывался подходящий.
С недавнего времени для либеральных экономистов вчерашний день стал совершенно не нужным элементом анализа. Все выводы делаются исходя из текущего положения дел. Потому недавние взлеты цен забыты, а на слуху – «блестящие победы» правительства над инфляцией. В действительности же отмечается только одна из фаз кризисного инфляционного процесса. Именуется она – распродажи.
Всякий большой экономический кризис (об истории их еще будет немало сказано в новых статьях) сочетает в себе две силы, влияющие на цены. Одна – это интерес спекулянтов, желающих получить прибыль на сужающемся рынке и потому искусственно создающих дефицит. Вторая –масса излишних товаров, не находящих сбыта и потому распродаваемых по сниженным ценам. Верх могут брать то одна, то другая из сил. Но велико еще влияние на процесс распределения денежных средств в экономике.
Если на какой-либо товар сохраняется платежеспособный спрос, а на другие товары он падает, то создаются благоприятные условия для эксплуатации этого ограниченного спроса. Падение интереса покупателей к бытовой технике сначала рождает застой, потом – распродажи залежавшейся продукции. Но если резко опускается спрос на продукты питания, то падение цен со временем неминуемо. Именно это и произошло в России осенью 2009 года. И нелепо выдавать углубление кризиса за антиинфляционные победы правительства. С другой стороны, наукообразный туман вокруг законов инфляции и денежного обращения именно для того и существует.
Означает ли все это, что цены на продукты питания надолго останутся на прежнем уровне? В работе над докладом ИГСО главным было проследить, как в действительности осуществляется денежное обращение в современном мире. Задача была сложной, но общие принципы оказались сформулированы. Так, было отмечено, что, несмотря на падение продаж и следующее из него снижение цен, потребительские товары в годы кризиса будут дорожать, а это продолжит способствовать ослаблению потребителей и сжатию рынка.
Сосредоточившись на анализе денежного обращения, мы не стали акцентировать внимание на естественном выводе из изложенного. Именно против «антинаучности» высказанного положения направили свои удары некоторые критики. Между тем вывод необычайно прост: инфляционный процесс на практике не мог быть равномерным, как целое он предполагал для групп товаров фазы взлета цен (спекуляции, обусловленные распределением спроса) и периоды их снижения. Причем потребительские товары первой необходимости должны были в ходе кризиса дорожать, что и происходило, в то время как многочисленная прочая продукция могла долговременно дешеветь. Падение цен на потребительские товары было и остается возможным главным образом в результате сжатия платежеспособного спроса. Россия в 2010–2012 годы еще не раз будет наблюдать подобные «противоречивые» процессы.
Другая сторона дискуссии вокруг доклада разворачивалось на иной, более основательной почве. По многим принципиальным позициям расхождений не было. Общим было неприятие необычайно упрощенных либеральных представлений об инфляции, многое об этом говорилось еще в первой дискуссионной статье. Принятие сложности конкретно-исторических условий, обусловливающих инфляцию, также было общим. В частности, подчеркивалась особая роль неолиберальной политики государства в накачке потребительских цен, когда эмиссия является орудием перераспределения денежных средств в пользу крупного капитала. Именно это осуществляется под видом антикризисной политики в США и других странах.
Сергей Чулок справедливо отмечал, что в моей статье была обойдена тема «инфляции издержек». Мое внимание было сосредоточено на ценах как продукте изменений в системе денежного обращения и спроса. Влияние стоимостного фактора – повышения затрат на производство – обходилось, поскольку тема эта нуждается в особом и детальном разборе. Для марксистской политической экономии цена – порождение рынка, стоимость – порождение процесса производства. Низкий спрос, создающий низкие цены – плохой стимул для наращивания выпуска товаров. С другой стороны, высокий спрос способен породить нехватку сырья и материалов в промышленности, спекулятивный взлет цен и рост цен на конечную продукцию.
Однако «инфляция издержек» – не обычное явление, которое всего лишь следует принимать во внимание. В экономической истории она служит вестником приближения отраслевых и общих кризисов перепроизводства. Рассматривать инфляцию нужно прежде всего не как «составляющую общей инфляции» или «особый фактор», а как признак изменений в процессе производства. Причем дороговизна производства зачастую оборачивается невозможностью реализовать продукцию, поскольку стоимость диктует производство, а цену – состояние рынка. Важно также отметить, что рост издержек может быть создан искусственно, что и имеет место в российской экономике.
В своей статье Сергей Чулок справедливо критикует господствующий повсюду монополизм, «диктат продавцов». Однако далее он неверно толкует марксистское понятие денег: они являются особым товаром, играющим роль всеобщего эквивалента; национальные ассигнации и иностранные валюты одинаково являются деньгами, а ничтожная стоимость купюры по сравнению с ее номиналом не должна нас смущать – еще Маркс показал в «Капитале», что верх берет функция денег как средства обращения. Отсюда и вытеснение золота в банковские сейфы в качестве гаранта надежности банкнот, а затем и отказ от золотого стандарта. Функция денег как средства сбережения сдает позиции под напором растущей скорости обращения. Только когда начинается кризис и темпы обращения капитала снижаются, золото на время возвращает себе прежние силы.
Нельзя не согласиться с автором, что учет динамики покупательной способности денег дает более наглядную картину, чем официальные графики инфляции. Но во многом именно для того они и составляются, выполняя политические функции. Есть и другая проблема. Еще Джон Кейнс констатировал, что рабочие с возмущением реагируют на снижение зарплаты, но не могут подобным образом ответить на рост цен. Государственная политика прекрасно этим пользуется и в наши дни. Однако, выстраивая некие справедливые схемы (чем страдают патриотические экономисты-рыночники), необходимо помнить о классовой природе политической власти. Советы поборников абстрактной справедливости крупной буржуазии совершенно не нужны.
В России монополии под видом компенсации своих издержек взваливают на население неизменные повышения тарифов или платы за проезд в общественном транспорте. Одновременно повышаются всевозможные косвенные налоги. Выражает это не «инфляцию издержек», а диктат крупного капитала, полностью свободного от общественного контроля. Монополии стремятся повысить свою доходность или компенсировать на внутреннем рынке потери от мирового снижения цен на энергоносители и сырье, но действуют под напором увеличивающихся издержек. Таким образом, рост тарифов и цен в России носит характер искусственный, спекулятивный. Выигрыши сырьевых монополий оплачиваются не просто деньгами трудящихся, но и сдерживанием развития внутреннего рынка. И для изменений сложившегося положения требуются уже не научные аргументы, а политическая сила низов.
Текущая ситуация с инфляцией – низкий уровень прироста цен, даже снижение их из-за распродаж – позволяет российским властям «гордиться успехами». Однако экономический кризис неотделим от ценовой нестабильности. В ближайшие годы еще не раз повторятся две фазы потребительской инфляционного процесса. За ростом цен на самые необходимые товары будет наступать пауза, даже снижение цен. Затем снова будет возможен ценовый взлет (включая тарифы). И каждый потребитель должен понимать, он – главная мишень спекуляций. Помогать буржуазное государство станет не ему.
СТАТЬИ >> ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Места возникновения затрат и центры ответственности
Места возникновения затрат – одна из обязательных групп объектов в системе управления затратами. Что такое места возникновения затрат? Как они связаны с центрами ответственности? Как формируются (выделяются) места возникновения затрат? Ответам на эти вопросы посвящена данная статья.
Места возникновения затрат и центры ответственности: квалификация и способы формирования
Определение понятию «место возникновения затрат» можно дать следующее.
Места возникновения затрат - структурные единицы компании, в отношении которых ведется планировании и учет затрат, связанных с их деятельностью.
Для чего необходимо выделить места возникновения затрат?
Все довольно просто. Если мы будем рассматривать предприятие в целом, не разделяя его на отдельные составляющие, то и затраты сможем учитывать только по предприятию в целом. (Так называемым «котловым» методом.) И при таком раскладе мы не сможем выявить – какое подразделение сработало хорошо, а какое не очень хорошо, где конкретно и по чьей конкретно вине возникли потери или перерасход ресурсов. А если все предприятие мы разделим на места возникновения затрат, то сможем деятельность каждого из этих мест «просвечивать рентгеном». Так что руководители этих мест возникновения затрат всегда будут чувствовать себя «под колпаком», не будут расслабляться и допускать разные вольности в работе.
На практике, говоря о местах возникновения затрат (МВЗ), часто используют и еще одно, «смежное» понятие – «центры ответственности (ЦО)». Оба этих понятия используются уже довольно давно. Но при этом нет полной ясности – как эти понятия друг с другом соотносятся.
Некоторые склонны ставить между ними знак равенства. Или, по крайней мере, используют такой формат представления: «МВЗ/ЦО», «МВЗ (ЦО)».
Другие считают, что «ЦО – это всегда что-то более крупное, чем МВЗ».
По мнению третьих, между этими понятиями – пропасть: «МВЗ – отголосок социализма, а ЦО – достояние современных управленческих технологий».
Чтобы «помирить» сторонников разных подходов и разобраться в данных понятиях, мы предлагаем посмотреть на структурные единицы (подразделения) компании с двух точек зрения:
- С точки зрения их «затратности», т.е. «причастности» к использованию ресурсов компании
- С точки зрения бремени их полномочий по использованию ресурсов организации и ответственности за результаты использования ресурсов
Рассматривая структурные единицы с точки зрения их «причастности» к использованию ресурсов мы почти автоматически и выходим на понятие «место возникновения затрат».
Место возникновения затрат - структурная единица, деятельность и само существование которой является причиной использования ресурсов (и, таким образом, возникновения затрат).
(Обратите внимание на слово «существование» в этом определении. Структурная единица может вообще никакую деятельность не вести, а затраты все равно будут возникать. Например, если планово-экономический отдел в полном составе ушел в очередной отпуск. Но при этом равно будет продолжаться потребление ресурсов: начисляться амортизация на занимаемые отделом помещения и закрепленную за ним оргтехнику, потребляться теплоэнергоресурсы и услуги по охране. Поэтому и бездействие, само существование структурной единицы может приводить к возникновению затрат.
А теперь взгляд на структурные единицы под другим углом.
С точки зрения полномочий по использованию ресурсов организации и ответственности за результаты этого использования структурные единицы рассматриваются как центры ответственности. Определение данному понятию буквально таким и будет.
Центр ответственности - структурная единица, наделенная полномочиями по использованию ресурсов организации и несущие ответственность за результаты использования ресурсов.
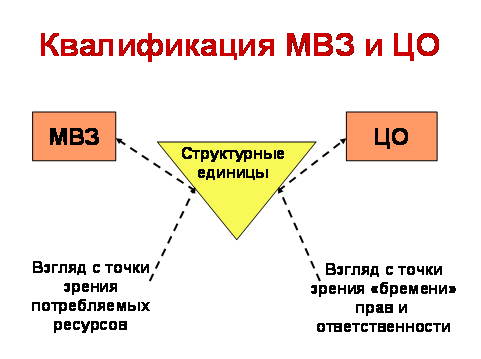
Таким образом, если сравнить определения «мест возникновения затрат» и «центров ответственности», то станет очевидно, что и места возникновения затрат, и центры ответственности – это структурные единицы, только рассмотренные под разными углами зрения:
- место возникновения затрат – это структурная единица, рассмотренная с точки зрения потребляемых этой структурной единицей ресурсов,
- а центр ответственности – это структурная единица, рассматриваемая с точки зрения прав на использование ресурсов и ответственности за результаты их использования.
(Это – как автомобиль, на который можно смотреть и как на часть имиджа, и как на «статью расходов», и как на источник повышенной опасности, и как на игрушку, и как на достижение цивилизации. Все зависит от того, под каким углом предмет рассматривается.)
Какой же вывод напрашивается? Получается, что между этими двумя понятиями следует поставить знак равенства.
Приходилось встречаться с таким мнением о соотношении мест возникновения затрат и центров ответственности:
«Место возникновения затрат – это структурная единица, а центр ответственности – это руководитель этой структурной единицы».
Звучит вполне логично и убедительно. Но ведь ответственность может быть и коллективной. Если вознаграждение всех (всех!!) работников цеха зависит от того, как цех исполнил «Бюджет доходов и расходов», то что это означает? Только то, что все сотрудники цеха несут ответственность за экономические результаты его работы.
Что такое места возникновения затрат и центры ответственности – мы выяснили. А как собственно выделять в компании необходимые МВЗ/ЦО?
Можно назвать следующие основные способы выделения мест возникновения затрат:
- Организационный
Данный способ предполагает, что места возникновения затрат выделяются на основе существующей организационной структуры (цеха, отделы, дивизионы, департаменты, управления и т.д.)
- По направлениям бизнеса или продуктам
В соответствии с данным способом может быть выделено, например, место возникновения затрат «Основное производство», как совокупность подразделений, непосредственно участвующих в производстве основных продуктов организации. Или, например, место возникновения затрат «туристический бизнес», как объединение подразделений и отдельных работников «причастных» к данному направлению деятельности. Или место возникновения затрат «дивизион продуктов категории А», включающее всех, кто занят разработкой, производством, продвижением и сбытом данных продуктов
- Пространственный или географический
Например, может быть выделено место возникновения затрат «Северный дивизион», объединяющее производственные, торговые и сервисные организации какого-нибудь холдинга, расположенные на североевропейской части России. Или, например, место возникновения затрат «Филиал в городе N»
- Технологический или процессный
В соответствии с данным способом, места возникновения затрат «привязываются» к процессу (не обязательно производственному) или участвующим в этом процессе средствам труда. Например, на складе могут быть выделены места возникновения затрат «участок погрузки» и «участок разгрузки». Соответственно, одно место возникновения затрат занято в технологическом процессе погрузки продуктов, другой – разгрузки продуктов. Или пример «привязки» к оборудованию - место возникновения затрат «линия окраски»
- Проектный
Предполагается, что выделенное место возникновения затрат «работает» на каком-либо проекте, осуществляемом организацией. Например, место возникновения затрат «строительство объекта D» включает всех, причастных к данному строительному проекту. А место возникновения затрат «проведение рекламной компании», объединяет сотрудников участвующих в рекламной компании.
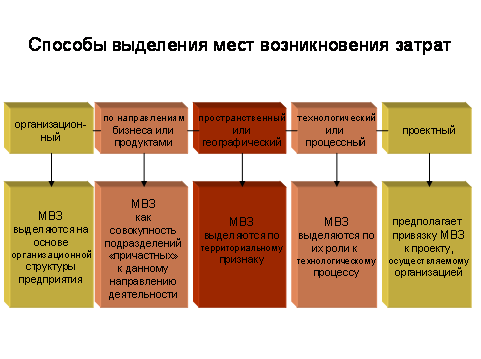
Конечно же, представленные способы не являются взаимоисключающими и между ними нельзя провести строгую границу. Очень часто в отношении одного места возникновения затрат могут быть использованы несколько способов выделения.
Например, выделено место возникновения затрат «дивизион продуктов А». При этом на предприятии существует соответствующая организационная единица – дивизион. Таким образом, при выделении данного места возникновения затрат использовано два признака одновременно – организационный (дивизион) и продуктовый (продукт А). А можно сказать и так, что сама организационная единица была сформирована по продуктовому признаку.
Другой пример. Выделено место возникновения затрат «проект подготовки конструкторско-технологической документации для производства продукта Р». При этом для реализации проекта сформирована временная организационная единица – рабочая группа. Таким образом, для данного места возникновения затрат использованы сразу три способа выделения:
- Организационный (рабочая группа)
- Проектный (проект подготовки)
- Продуктовый (для продукта Р»)
Впрочем, из приведенных примеров вовсе не следует, что места возникновения затрат всегда будут соответствовать структурным единицам, закрепленным в организационной структуре. И в этом смысле можно говорить о «виртуальных» местах возникновения затрат. Конечно же, выделяют такие места возникновения затрат не от склонности к мистификации, а для решения каких-либо управленческих задач.
Например, возникла потребность оценить трудоемкость и «затратность» работ, связанных с заготовлением материалов. Для этого выделяется «виртуальная» «сквозная бригада», объединяющая сотрудников различных подразделений, «причастных» к приобретению, доставке и складированию материалов. При том, что каждый из участников этой «сквозной бригады» продолжает трудиться в своем родном подразделении, все возникшие в результате его деятельности затраты будут начисляться на это «виртуальное» место возникновения затрат.
Следует сказать и о возможности существования такого варианта - одна структурная единица (или ее часть) относится к нескольким местам возникновения затрат. Например, структурная единица «конструкторский отдел» может быть «представлена» одновременно в нескольких местах возникновения затрат:
- В месте возникновения затрат с одноименным названием («конструкторский отдел»)
- В месте возникновения затрат «дивизион продуктов В», где несколько сотрудников конструкторского отдела «на постоянной основе» курируют конструкторскую документацию на данную группу продуктов
- В месте возникновения затрат «проект реконструкции линии ламинирования», где сотрудники конструкторского отдела ведут проектирование нестандартного оборудования для реконструируемой производственной линии
Следует еще сказать о классификации мест возникновения затрат и центров ответственности с точки зрения их места в «затратной цепочке». В соответствии с этой классификацией можно выделить:
- «Первичные» места возникновения затрат, которые создают ресурсы для других мест возникновения затрат. Например, цех теплоснабжения производит горячую воду и пар для других структурных единиц
- «Вторичные» места возникновения затрат, которые потребляют ресурсы от других структурных единиц. Таким образом, каждый потребитель рассмотренного выше цеха теплоснабжения является «вторичным» местом возникновения затрат
Резюме:
1. Повышение эффективности предприятия и снижение затрат невозможны без выделения мест возникновения затрат/центров ответственности.
2. Чтобы не погрязнуть в ненужных спорах, просто примите, что место возникновения затрат и центр ответственности – это одно и то же.
3. Выделяя у себя в компании места возникновения затрат помните, что некоторые из них могут быть «виртуальными», а некоторые создаваться только на определенный промежуток времени.