СТАТЬИ >> МАКРОЭКОНОМИКА
Кризис forever? Проблемы современной экономической теории
Автор: Билыч Геннадий Юрьевич.
Все, что необходимо для установления природы экономических кризисов, уже создано экономической теорией. Достаточно подробно разработанная теория экономического равновесия и совершенной конкуренции представляет собой теорию кризиса. Известно, что в условиях равновесия прибыли предприятий равны нулю и экономический рост невозможен, что является определяющим признаком кризиса. Почему-то этим фактам долгое время не уделялось должного внимания. Но пришло время по-новому взглянуть на достижения современной экономической науки, в том числе, на теорию Шумпетера, которая раскрыла условия существования экономического роста и объяснила циклический характер развития.
Многие экономисты характеризовали состояние своей науки в 70-х – 80-х годах прошлого века, как всеобъемлющий кризис. Позже, немного успокоившись, заговорили о затянувшемся периоде накопления необходимых данных, которые в будущем обязательно приведут к прорыву и преобразованию экономической теории в полноценную науку. Образцом полноценной науки обычно считалась физика. Но уныние и растерянность настолько было (и есть) сильным, что многие считали (и считают) невозможным достижения социальными науками уровня точных наук. Причина заключается в воздействии на экономические процессы сознательного поведения человека, который по различным причинам не всегда ведет себя рационально. Поэтому результат поведения становится непредсказуемым и говорить о будущем можно только с некоторой вероятностью. Разброд и шатания были, безусловно, связаны с экономическим кризисом начала 70-х годов и концом, как казалось, Кейнсианской (Keynes, J.M.) революции. Беспомощность экономической теории особенно наглядна во времена кризисов.
Говорить о полноценности науки, которая неспособна не только предсказать очередной кризис, но и внятно объяснить его природу и причины наступления, явно преждевременно. Долгое время ситуацию спасала теория Дж. М. Кейнса, рожденная во времена Великой депрессии 30-х годов. Эта спорная теория достаточно быстро завоевала сердца, и на это было две причины. Во-первых, никаких внятных теорий кризисов, за исключением некоторых разрозненных идей и странных теорий, одна из которых даже связывала цикличность экономического развития с Солнечной активностью, в то время не было. Во-вторых, идея упала на очень благодатную почву: теория призывала к активному государственному вмешательству в рыночные механизмы. Учитывая, что государственное вмешательство, которое в период Первой Мировой войны и позже дало возможность почувствовать правительствам свою небывалую силу и власть, в дальнейшем только усиливалось, подобная теория быстро была подхвачена многими странами. Если не вдаваться в подробности, то суть теории в том, что по неведомой причине в некоторые периоды спрос внезапно падает, а сбережения растут, что порождает цепную реакцию неуверенности и приводит к сокращению производства и занятости. (Интересно, многие из нас наблюдали в преддверии нынешнего кризиса внезапно падающий спрос и рост сбережений? Все происходило, ровно, наоборот.) Негибкость цен приводит к дисбалансу рыночного механизма и возврат к нормальному состоянию невозможен без вмешательства государства. Имеется некий скрытый рыночный дефект, который лечится искусственным стимулированием спроса, заливанием экономики деньгами. Как предлагал Кейнс, в тяжелые времена сгодится даже такой экстравагантный метод поддержания спроса, как зарывание ассигнаций в шахты. Люди будут заняты отрыванием денег, поэтому занятость будет высокой, люди будут тратить найденные деньги на товары и услуги, поэтому будет наблюдаться экономический рост. Правительства до сих пор активно используют этот метод, раздавая деньги и кредиты всем подряд. А потом с удивлением взирают на высокие оклады управляющих крупных страховых компаний и банков. Но правительства сами провоцируют такое поведение, помогая неэффективным компаниям в тяжелые времена. Ничто не мешает им рисковать и выдавать ничем необеспеченные кредиты, зная, что помощь всегда придет. Поэтому свои высокие оклады они заработали. Регулирование в одном месте, через некоторое время, требует регулирования в другом. Одна проблема порождает другую, если недостаточно хорошо знаком с действием механизма.
Теория Кейнса потребовала отказа от соблюдения закона Сэя, который провозглашал равенство между спросом и предложением. Жертва была чрезвычайно значимой, поскольку все ценообразование основано на этом законе. Точка пересечения кривых спроса и предложения определяет цену любого товара. Определение цены возможно только при равенстве спроса и предложения. Отказ от закона Сэя равносилен признанию таких явлений, как «недопроизводство» и «перепроизводство». Обосновано ли существование таких понятий? Очень многие считают, что нет. «Недопроизводство» или необеспеченный спрос легко устраняется в рыночной экономике повышением цены, которая приводит к установлению равенства между спросом и предложением. «Перепроизводство» или возрастающие непроданные складские остатки какого-либо товара говорит о несогласии производителя с установившейся рыночной ценой. Но это проблема производителя, а не экономики в целом. Ему можно только посоветовать работать более эффективно: снижать издержки, внедрять новые технологии, совершенствовать управление. Он оказался на обочине рынка, если не согласен с рыночной ценой продукта. Его складские запасы никого беспокоить не должны, включая экономистов. Его товар не участвует в процессе рыночного обмена, и не оказывает никакого воздействия на экономические параметры. Сегодня о нем можно забыть и не беспокоиться. Рыночный спрос всегда равен рыночному предложению по цене, согласованной с производителем, а рыночное предложение всегда равно спросу по цене, согласованной с покупателем.
Последний гвоздь в гроб кейнсианства должна была вбить кривая Филипса (Philips curve), начиная с конца 60-х годов. Кривая Филипса представляет собой обратную зависимость между инфляцией и уровнем безработицы. Она прекрасно вписывается в теорию Кейнса. Растущие расходы увеличивают инфляцию и спрос, что подталкивает производство к расширению выпуска товаров и снижает безработицу. Таким образом, увеличивая предложение денег, можно увеличить экономический рост и занятость. Многие из нас, на собственной шкуре, в начале 90-х, убедились в сомнительности такой зависимости. В развитых странах с конца 60-х кривая Филипса стала выделывать такие траектории, что будь Дж. М. Кейнс в то время жив, ему пришлось бы немедленно застрелиться. Как будет показано ниже, кривая Филипса существует, но носит более сложный характер.
К концу 70-х все больше правительств начинает отказываться от кейнсианских методов регулирования и все больше склоняться к принципу «Laissez faire, laissez passer». М. Тетчер и Р. Рейган провозгласили возврат к базовым принципам либерализма, и некоторое время идеи свободного рынка брали верх. Но отсутствие серьезного прогресса и новых идей в экономической науке не позволили либерализму надолго восторжествовать. Постепенно все вернулось на круги своя.
Следует упомянуть еще об одной неразрешимой проблеме современной экономической теории, которую некоторые экономисты окрестили «большим скандалом» (Arrow A.J.). Это отсутствие всякой связи между микроэкономикой и макроэкономикой. Эти разделы науки развивались и продолжают развиваться совершенно обособлено друг от друга. Никаких уравнений и зависимостей, связывающих микро и макропараметры, не существует. А значит, невозможно говорить о цельности экономической науки.
Что осталось на пепелище экономической науки в начале XXI века? Очень многое. Но нас будет интересовать только теория общего экономического равновесия и совершенной конкуренции, предельный анализ и теория Шумпетера (Schumpeter, J.A.). Теория общего экономического равновесия и совершенной конкуренции представляет собой каркас, на который нанизана вся современная экономическая теория. Но в ней содержаться два момента, которые вызывают беспокойство и непрекращающиеся споры. Во-первых, это определение совершенной конкуренции. Для существования совершенной конкуренции необходимо соблюдение огромного количества различных условий: большое число покупателей и продавцов, возможность свободного входа и выхода с рынка, наличие полной информации и малые издержки на ее поиск, однородность и делимость продукта, отсутствие внешних эффектов и возрастающей отдачи. В реальной экономике выполнение всех этих условий, практически, невозможно. Кроме того, в реальности, очень часто, уровень конкуренции на рынке 3-х – 4-х производителей значительно выше, чем на рынке с 40 производителями. Чрезвычайно важно настолько растущим или стагнирующим является изучаемый рынок. В условиях бурного роста большинство предприятий легко находят себе место под Солнцем, а при замедлении роста происходит усиление конкуренции. Пользуясь терминологией теории игр, наблюдается игра с нулевой суммой, при которой выигрыш одного игрока означает проигрыш другого. Понятно, что определение условий существования совершенной конкуренции и оценка уровня конкуренции на рынке требует, в лучшем случае, корректировки, а, в худшем, полного пересмотра.
Вторым проблемным моментом теории общего равновесия и совершенной конкуренции является отсутствие прибыли и экономического роста. Такой вывод представляет большой интерес, хотя у большинства экономистов он вызывает лишь раздражение, потому что создает непреодолимое препятствие при изучении экономического роста. Для преодоления этого препятствия изобретались различные способы, самым известным из которых является попытка ввести понятие «нормальная прибыль» и включить ее в стоимость фактора производства «предпринимательский талант» или в доход собственника производства. Но все попытки тщетны. В условиях совершенной конкуренции, цены неизбежно становятся равными предельным издержкам производства, а стоимость факторов производства будут равны ценности их предельных продуктов. Прибыли обнуляются, что не позволяет иметь средства для развития. Предприятия лишены возможности приобретать дополнительные средства производства и экономический рост неизбежно исчезает. Для нас представляется важным факт, что условия равновесия и совершенной конкуренции сильно напоминают состояние экономики, которое мы в обычной жизни называем «кризисом». И вся теория равновесия изучает стационарное состояние, при котором прибыль и экономический рост равны нулю. Такое состояние совершенно неизбежно, но, что позволяет преодолеть его? Где та соломинка, которая способна вытянуть экономику из равновесия и возобновить экономический рост? Ответ содержится в работах Шумпетера, которые часто упоминаются, но мало обсуждаются. А важная подсказка есть у Адама Смита в его центральной идее о том, что индивид, преследуя личные цели, содействует процветанию всего общества. Личная цель – это прибыль, а процветание всего общества зависит от уровня экономического роста. Снова появляются вместе, как и в теории экономического равновесия, понятия «прибыли» и «экономического роста». Как стремление к прибыли стимулирует увеличение экономического роста? Какая связь существует между прибылью и уровнем экономического роста? Установление связи между ними позволит связать микроэкономику и макроэкономику, что представляется весьма желательным.
Попробуем обнаружить указанную связь. В современной трактовке чистая прибыль определяется как остаток денежных средств после того, как произведены выплаты собственникам всех факторов производства, включая, так называемые, неявные издержки. После всех выплат единственной возможностью потратить прибыль остается дополнительное приобретение инвестиционных и потребительских товаров. Никакой другой возможности применения прибыли нет, исключая случай простого сбережения. Если сбережения осуществляются в форме банковского депозита, то они будут потрачены заемщиками на приобретение тех же дополнительных потребительских и инвестиционных товаров. И в этом случае принципиально ничего не меняется. Если прибыль хранится в сундуке или в гараже, то этот случай должен в большей степени интересовать психиатров, а не экономистов. Для экономистов этот случай предельно прост: произошло сокращение денежной массы, что, возможно, сократит несколько инфляцию. Часть прибыли может быть потрачена на увеличение зарплат персоналу предприятия, что приведет к росту потребления и сбережений. Другими словами, дополнительные выплаты уйдут на закупку дополнительных потребительских товаров и услуг. Мы приходим к выводу, что общая прибыль всех производителей равна стоимости дополнительно произведенного продукта, который равен реальному экономическому росту. Существует, на первый взгляд, еще одна возможность нарушения баланса между прибылями и экономическим ростом. Производитель, увеличивший производство, не смог реализовать свой продукт. Причина может заключаться в низких, на его взгляд, рыночных ценах. Экономистов судьба его складских остатков волновать не должна, потому что они выбыли из процесса обмена и никакого интереса сегодня не представляют. Равенство между общей прибылью всех участников рынка и экономическим ростом сохраняется всегда. Любое неравенство этих величин устраняется посредством инфляции или дефляции. Предположим, что за истекший финансовый год суммарная прибыль всех предприятий составила $110 millions, а дополнительно выпущено продукции (экономический рост) на $100 millions. Товары подорожают до $110 millions и неравенство будет устранено посредством инфляции. Еще проще установить связь между прибылью и экономическим ростом возможно в условиях простого натурального обмена, когда деньги отсутствуют. В таких условиях прибыль отдельного индивидуума будет равна дополнительно приобретенному продукту. Никаким иным способом материализовать прибыль невозможно, поскольку деньги в экономике отсутствуют. В случае экономического равновесия, когда экономический рост равен нулю, прибыль или дополнительно приобретенный продукт одного предприятия или индивидуума будет означать такой же убыток другого и общая прибыль, как и экономический рост, будет равняться нулю. При экономическом росте, когда создается определенное количество дополнительной продукции, общая прибыль будет равна этому дополнительному продукту. Только так. Никаких иных вариантов нет. Более строгое доказательство равенства общей прибыли и экономического роста, используя простые примеры, а также производственные функции отдельного предприятия и рынка в целом, будет дано в приложении. Там нам потребуются элементарные знания предельного анализа и математики. Будет показано, что в условиях равновесия и совершенной конкуренции, установить цены товаров очень проблематично. Имеется одно уравнение и великое множество неизвестных. Действительно, сколько стоит фабрика или завод, когда их прибыль равна нулю? Сколько стоит станок, если его приобретение не принесет прибыли? Чему равна стоимость земельного участка, если при любом его использовании, мы можем лишь возместить затраты? Возможно, поэтому состояние равновесия переживается нами так остро, и мы именуем его словом «кризис». В условиях экономического роста цены определить легко: они равны предельным затратам деленным на предельный продукт. Количество уравнений равно количеству неизвестных. Прибыли, суммируясь на микроуровне, на макроуровне преобразуются в экономический рост. «Индивид, преследуя свои корыстные цели, содействует процветанию всего общества». Вывод о том, что
общая прибыль производителей = экономическому росту в стране
представляет исключительный интерес, потому что объясняет многие экономические процессы, в том числе, циклический характер развития.
Анализ цикла деловой активности начнем с состояния кризиса или экономического равновесия. Общая прибыль предприятий и рост экономики равны нулю. Прибыль отдельного предприятия будет означать убыток другого. Ресурсы используются максимально эффективно для данного уровня развития. В противном случае, производители могли бы извлечь прибыль, повысив производительность какого-либо ресурса. Доход превысил бы затраты и полученная разница могла быть направлена на развитие. Появился бы экономический рост. Но это невозможно. Где же выход? И здесь на сцену выходит гениальная догадка великого Шумпетера: необходимы технологические, научные, управленческие инновации, которые способны скачкообразно повысить производительность. Не повышая затрат, предприятие будет способно увеличить выпуск продукции. Появляется прибыль и экономический рост. Предприятие, внедрившее прогрессивные новшества, вырывается из лап совершенной конкуренции и начинает извлекать монопольную прибыль. Отстающие начинают нести убытки, потому что передовое предприятие способно больше платить за ресурсы и начинает увеличивать свою долю на рынке. У компании появляются подражатели и последователи, которые тоже извлекут пользу из своего положения. Суммарная прибыль растет, а значит, экономический рост усиливается. Как будет показано в приложении, когда большинство предприятий перейдет на более совершенную технологию или внедрит новые управленческие решения, рост станет максимальным и в дальнейшем начнет снижение. Представляется, что уровень конкуренции логично будет характеризовать величиной обратной экономическому росту. В условиях равновесия, когда экономический рост равен нулю, уровень конкуренции становится бесконечным. Рынок становится совершенно конкурентным. Когда экономический рост достигает максимума, уровень конкуренции минимален. Все больше предприятий эффективно использует ресурсы, все меньше возможностей для роста и извлечения прибыли, усиливается борьба за трудовые, капитальные и природные ресурсы. До очередного кризиса остается все меньше времени. Борьба за ресурсы снижает безработицу, повышает зарплаты, цены на недвижимость и сырье. Все прекрасно помнят, как в преддверии кризиса росли цены на недвижимость, нефть, газ, металлы, как стремительно росли зарплаты и усиливалась инфляция. Вот она знаменитая кривая Филипса: растет инфляция и занятость. Такой характер кривой наблюдается в период снижения экономического роста. Главными индикаторами приближающегося кризиса являются высокие цены ресурсов, низкий уровень безработицы и высокая инфляция издержек. Рынок приближается к максимальной эффективности и максимальному производству, который возможен при данном уровне развития технологий и знаний. В конце концов, мы снова придем к экономическому равновесию и совершенной конкуренции, и нам снова понадобятся новые идеи и внедрение инноваций, за которыми последует новый цикл деловой активности. Шумпетер стал первым, кто указал на непрерывность циклического процесса внедрения инноваций и, сам того не подозревая, объяснил природу кризиса и встроенный в рынок механизм развития и прогресса.
Из сказанного становится понятна природа, так называемого, «ресурсного проклятия». Известно, что очень часто, страны, обладающие богатыми природными ресурсами, отстают от остальных в экономическом развитии. Если правительства таких стран устанавливают защитные барьеры и чрезмерно увлекаются протекционизмом, добиваясь низких цен на ресурсы для национальных производителей, то они нарушают естественный процесс развития. Цены определяют стимулы и влияют на поведение предприятий и индивидуумов. Низкие цены на ресурсы не требуют внедрения ресурсосберегающих технологий и повышения производительности, стимулы внедрять инновации ослабевают и становятся неактуальными. Такая страна может с легкостью проспать целую технологическую или научную революцию. Снижение конкурентоспособности национальной экономики вызовет еще большее желание закрыться и огородиться новыми защитными рвами и, как крайний случай, колючей проволокой. Национальные производители и потребители должны получать ресурсы и товары по ценам открытого рынка. Тогда появится возможность внедрять, сберегать и учиться. В противном случае страна начнет деградировать, потеряет целые отрасли и не создаст новые. Ей придется уповать только на высокие цены природных ресурсов. Но эти надежды напрасны. Если посмотреть на относительную цену сырья по отношению к ценам на товары и услуги, то выясняется, что она на протяжении всей истории неуклонно снижается. Безусловно, бывают всплески и периоды роста, но тенденция неизменна. Причина в стремлении производителей и потребителей получать прибыль. Дорожающий ресурс будет использоваться максимально экономно и эффективно, беспрерывно будет происходить поиск альтернативы и, не сомневайтесь, она будет найдена, как всегда находилась на протяжении всей истории человечества. Есть только одно исключение, один ресурс, у которого нет альтернативы, который будет дорожать всегда. Это труд, вечный ресурс, способный творить, обучаться и непрерывно увеличивать производительность. Ему уготована исключительная жизнь, его стоимость или, другими словами, зарплата будет повышаться всегда. Уровень жизни будет расти, если рост происходит в условиях свободного рынка, а не за колючей проволокой.
Почему внедрение инноваций не носит непрерывный характер? Ведь, в таком случае, непрерывно бы росла производительность, и не было бы места кризису? Дело в том, что значимые технологические и научные достижения происходят не каждый день. Изменения, способные существенно повысить производительность труда и капитала, случаются крайне редко. К таким инновациям мы можем отнести изготовление металлических орудий труда в древности, система рабства, появление денег, изобретение парового двигателя и создание паровоза, изобретение двигателя внутреннего сгорания и появление электричества, создание пластмассы, резины, применение в авиастроении алюминия и многое другое. Длительный период непрерывного роста после Второй Мировой войны вызван небывалым подъемом науки и внедрением многих революционных технологий: реактивные двигатели, атомная энергетика, телевидение, создание транзистора, композиционные материалы и другое. Период непрерывного роста 90-х годов, по-видимому, связан с появлением персональных компьютеров, которые серьезно снизили затраты предприятий и повысили производительность, а также развитием сотовой связи. Вторая причина прерывистого характера внедрения инноваций заключается в отсутствии стимула у производителей в периоды экономического роста. Зачем рисковать и что-то внедрять, если предприятие работает с прибылью? Внедрение потребует некоторого времени и серьезных усилий, поэтому существует серьезная опасность потерять определенную долю рынка и снизить темпы роста. И только тогда, когда прибыли и рост устремляются к нулю, появляются стимулы что-то менять и внедрять, чтобы вырваться из тисков совершенной конкуренции.
Кризисы существовали всегда, но пристальное внимание на них обратили в XIX веке после промышленной революции. Причина заключается в следующем: темпы роста экономики, по некоторым данным, 500 – 1000 лет назад составляли доли процента, что в 10 – 100 раз ниже нынешних темпов. Поэтому путь от одного состояния равновесия к другому был долгим. Кризисы случались раз в 100 – 1000 лет. Ускорение экономического развития привело к сокращению делового цикла, теперь кризисы случаются раз в 10 – 20 лет. Кроме того, они стали носить глобальный характер, потому что хозяйственные и финансовые связи существенно улучшились. Капитал свободно перемещается из страны в страну, информация распространяется мгновенно, путешествия из региона в регион занимают часы, управлять заводом или фабрикой можно, находясь в другом полушарии. Это приводит к тому, что мир развивается синхронно. Если где-то экономический рост начинает снижаться, а значит, уменьшаться прибыли, то капитал перетекает в другие сектора экономики или регионы мира. Рост в этих секторах и регионах ускоряется, и темпы роста выравниваются, поэтому различные отрасли и страны вступают в эпоху кризиса одновременно. Наступает мировой кризис, который был невозможен еще 300 лет назад.
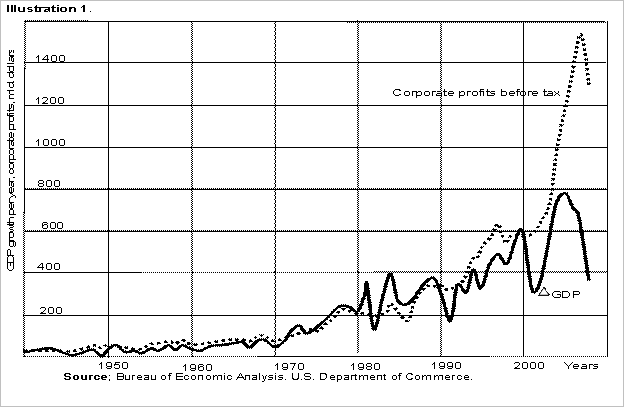
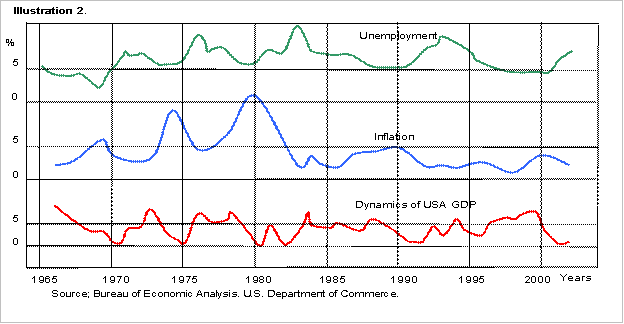
На рис. 1 представлены кривые общей корпоративной прибыли предприятий США до налогообложения и изменения номинального ВВП (номинальный экономический рост) за период с 1940 по 2008 г.г. Характер кривых идентичен, минимумы и максимумы совпадают во времени. Но абсолютные значения общей прибыли и экономического роста, за редким исключением, отличаются друг от друга. Причины неравенства абсолютных значений экономического роста и суммы прибылей производителей, по-видимому, заключены в следующем. Во-первых, условность периода измерений (1 год) и непрерывность экономических процессов приводят к тому, что прибыли и рост могут не совпадать во времени и проявляться в разные периоды. Инвестирование прибыли требует времени, поэтому экономический рост проявится не сразу. Во-вторых, далеко не вся прибыль и не весь произведенный продукт и услуги включены в официальную статистику. В-третьих, многие предприятия завышают прибыльность своей деятельности, пытаясь улучшить корпоративные показатели и завоевать одобрение акционеров. В-четвертых, результаты деятельности финансового сектора не включены в величину ВВП, и общую прибыль разделить на производственную и финансовую составляющие чрезвычайно тяжело. Кроме того, около половины прибыли предприятия вынуждены отдавать в виде налогов. Настолько эффективно в дальнейшем используются эти средства? Оказывают ли они какое либо влияние на экономический рост? В любом случае, данный вопрос требует тщательного изучения и дальнейшего обсуждения.
Изменение ВВП США, которое характеризует экономический рост (в процентах), безработица (в процентах), инфляция (в процентах) с 1965 г. по 2002 г. показаны на рис. 2. Кризис 1971 года мог быть предсказан, с большой вероятностью, в середине 1960-х, когда экономический рост стал затухающим, а инфляция и занятость беспрерывно росли. Конкуренция усиливалась, борьба за ресурсы, в том числе рабочую силу, обострялась. Экономика США приближалась к состоянию равновесия или кризиса, кому как угодно это состояние называть. Кривая Филипса носила предсказуемый характер: с увеличением инфляции безработица снижалась. Экономика исчерпала возможности дальнейшего роста, нужны были новые технологические, научные, управленческие решения, способные серьезно изменить производительность труда и эффективность использования ресурсов. Самыми значимыми инновациями, которые запустили новый цикл экономического роста, стали энергосберегающие технологии. Высокие цены на нефть и бензин изменили поведение потребителей и открыли новые возможности для производителей. Более экономные автомобили, энергосберегающие станки и оборудование, снижение металлоемкости производств, развитие альтернативных источников энергии серьезно снизили затраты и повысили производительность производственных факторов. Прибыли и экономический рост стали повышаться. Инфляция на этом этапе развития продолжает снижаться или топчется на месте, а безработица остается высокой и может даже вырасти еще. Кривая Филипса носит неопределенный характер. Период интенсивного развития заканчивается, когда экономический рост достигает максимального значение. В дальнейшем наступает экстенсивный этап развития, которому свойственно усиление конкуренции, рост цен на сырье и недвижимость, увеличение зарплат и занятости, резкое повышение инфляции. Экономика движется в сторону равновесия и очередного кризиса. Как видно на рис. 2, не любое снижение экономического роста заканчивается кризисом. На протяжении 1980-1990-х годов экономика быстро находила необходимые инновации (персональные компьютеры, интернет, сотовая связь). Значит, мир без кризисов возможен? Скорее всего, нет. Ни отдельный человек, ни правительства не способны предугадать то, что способно изменить мир и поможет запустить новый этап развития. Нам не дано понять: где и когда возникнет очередная революционная инновация, которая разрушит состояние равновесия и совершенной конкуренции. Поэтому, кризисы будут преследовать нас всегда. Таковы законы развития. Исчезнет только страх перед ними, потому что мы точно знаем, что за кризисом наступает длительный период роста и процветания. Так было всегда и так будет.
Приложение.
Производственная функция отрасли (страны), когда используется один фактор производства, в состоянии экономического равновесия будет иметь следующий вид:
pQ = wL, (1)
где p – цена произведенного продукта, Q – количество продукта, которое может быть представлено, как сумма произведенного продукта по всем фирмам отрасли (Σqi), w – цена производственного ресурса, L – количество ресурса (Σli). Производственная функция отдельного предприятия:
pq = wl, (2)
где q – продукт, произведенный предприятием, l – количество ресурса, используемого на предприятии. Затраты (правая часть уравнения) равны доходу (левая часть уравнения), прибыль предприятия равна нулю (v = 0). Отсутствие средств на инвестиции и невозможность привлечения дополнительных ресурсов побуждает предприятия к поиску выхода из создавшегося положения. Выход возможен только один, он заключается в повышении производительности существующего ресурса или замене его на более производительный альтернативный ресурс. Это возможно только путем внедрения технологических, научных, организационных и других достижений, или, другими словами, внедрением инноваций. После таких изменений производство конечного продукта вырастет, затраты не изменятся, возникнет прибыль, а производственная функция предприятия, которое внедрило прогрессивные изменения, приобретет следующий вид:
pq + d(pq) = wl + v, (3)
где d(pq) – прирост производства за время dt, v – прибыль. Учитывая (2), уравнение (3) принимает вид:
d(pq) = v, (4)
что указывает на равенство прибыли и экономического роста. Прибыль предприятия может быть направлена на увеличение выпуска продукта или на приобретение потребительских товаров, что вызовет рост цен. Но реальная прибыль будет равняться реальному экономическому росту. Поскольку в экономике важна не абсолютная, а относительная цена, в ходе дальнейших рассуждений за единицу измерения примем цену продукта (p = const). На рынке через время dt установится новое равновесие (при условии неизменности количества ресурса L = const):
p(Q + dq) = (w + dw)L,
которое отражает увеличение стоимости ресурса или снижение стоимости продукта, кому как нравится. Прирост стоимости ресурса:
dw = pdq/L (5)
увеличивает затраты предприятия и в следующем производственном цикле прибыль станет несколько ниже. Теперь производственная функция предприятия примет следующий вид:
pq + pdq = (w + dw)l + v.
После преобразований, учитывая (5), прибыль за 2-й производственный цикл составит:
v = pdq - lpdq/L = pdq(1 - l/L), (6)
что, на первый взгляд, не соответствует экономическому росту, который теперь равен нулю, так как общий выпуск не изменился и по-прежнему составляет p(Q + dq). Но это не так. Поскольку стоимость используемого ресурса выросла, то за этот же период остальные компании получат убыток, либо сократят производство на величину:
(L - l)dw = pdq - lpdq/L = pdq(1 - l/L).
Именно, поэтому сумма прибылей всех участников рынка будет в точности равна экономическому росту.
Проще всего, убедиться в равенстве суммы прибылей предприятий и экономического роста на простом примере. Пусть рынок состоит из трех фирм, каждая обладает одной единицей ресурса. Производительность или цена ресурса равна 60 условным единицам. Новая технологии позволяют увеличить производительность до 90 условных единиц. Итак, l1 = l2 = l3 = 1, L = l1+l2+l3 = 3, w0 = 60, wn = 90, dw = 90 – 60 = 30. В состоянии равновесия, когда все предприятия работают по старой технологии, а прибыли и рост равны нулю, общий выпуск составляет:
pQ0 = l1w0 + l2w0 + l3wo = 60 + 60 + 60 = 180.
Пусть первая фирма внедрит новые технологии, в результате чего увеличит производство. Затраты на закупку ресурсов останутся неизменными, поэтому фирма получит прибыль:
pq1 = wnl1 = 90, pq1 = w0l1 + v1, прибыль v1 = 30.
Вторая фирма: pq2 = w0l2 = 60, pq2 = w0l2 + v2, прибыль v2 = 0.
Третья фирма: pq3 = w0l3 = 60, pq3 = w0l3 + v3, прибыль v3 = 0.
Общий выпуск: pQ1 = 90 + 60 + 60 = 210. Экономический рост: pQ1 - pQ0 = 210 - 180 = 30. Прибыль и экономический рост равны 30.
В следующем производственном цикле ситуация на рынке производственных ресурсов меняется. Стоимость ресурсов начинает увеличиваться:
pQ1 = w1L, w1 = pQ1/L, w1 = 210/3 = 70.
Стоимость ресурса увеличилась с 60 до 70 единиц. На этот момент производство и прибыль первой фирмы составит:
pq1 = wnl1 = 90, pq1 = w1l1 + v1, прибыль v1 = 20.
Вторая фирма: pq2 = w0l2 = 60, pq2 = w1l2 + v2, прибыль v2 = -10.
Третья фирма: pq3 = w0l3 = 60, pq3 = w1l3 + v3, прибыль v3 = -10.
Вторая и третья фирмы начинают терпеть убытки, поскольку покупают ресурсы по возросшим ценам, а производительность остается низкой. Роста производства не наблюдается. Производство находится на прежнем уровне и составляет 210 единиц. Равенство между экономическим ростом и прибылями сохраняется:
pQ2 - pQ1 = v1 + v2 + v3 = 0.
Фирмы не желают мириться с убытками и, допустим, вторая фирма проводит модернизацию производства и внедряет новые технологии. На рынке ресурсов перемен нет и они закупаются по старым ценам (w1 = 70). Ситуация складывается следующим образом:
Первая фирма: pq1 = wnl1 = 90, pq1 = w1l1 + v1, прибыль v1 = 20.
Вторая фирма: pq2 = wnl2 = 90, pq2 = w1l2 + v2, прибыль v2 = 20.
Третья фирма: pq3 = w0l3 = 60, pq3 = w1l3 + v3, прибыль v3 = -10.
Производство возрастает до 240 единиц. По-прежнему наблюдается равенство между экономическим ростом и прибылями:
pQ3 - pQ2 = v1 + v2 + v3 = 30.
Такие рассуждения можно продолжать бесконечно долго, но вывод о равенстве суммы прибылей всех участников рынка и экономического роста будет оставаться неизменным.
Нежелание нести убытки или сокращать производство вынуждает предприятия перенимать опыт успешной компании, внедряя передовые технологии управления и производства. Как было показано (6): v = pdq(1 - l/L). Положительная прибыль всей экономики будет пропорциональна l(1 - l/L). Приравняв производную по l к нулю, получим l = L/2. Прибыли достигают максимума, когда половина компаний внедряет передовой опыт производства. Затем прибыли начнут сокращаться, экономический рост замедляться, превратившись в ноль в состоянии равновесия, когда все компании внедрят инновации. Экономика исчерпала свой ресурс. Факторы производства используются наиболее эффективным, для данного уровня развития производительных сил, образом. Наступил период равновесия, который в реальных условиях люди склонны именовать кризисом. Единственной возможностью существования прибыли в таких условиях является перераспределение ресурсов, когда увеличение дохода одной фирмы происходит за счет убытка другой. Суммарная прибыль при этом, по-прежнему, отсутствует, а любая попытка нарастить выпуск продукции вызывает рост цен на ресурсы в соответствии с (5). Противоречивость предельного анализа в экономической теории заключается в том, что фирмы для достижения равенства предельных и средних издержек обязаны наращивать (снижать) выпуск продукции, что в условиях равновесия невозможно. Увеличение выпуска фирма может добиться только за счет своего неудачливого соседа. Но если все остальные предприятия работают эффективно, то никакой предельный анализ невозможен. В условиях экономического равновесия прибыль отсутствует в принципе, так что ни о какой максимизации прибыли говорить нельзя.
Таким образом, частный интерес (прибыль) содействует процветанию всего общества (экономический рост). Попытка получить прибыль и ослабить конкурентное давление приводят к внедрению инновационных решений, повышающих эффективность использования имеющихся ресурсов. Другие устремляются следом и, очень скоро, все ресурсы используются одинаково эффективно. Конкуренция усиливается и очередной герой обдумывает свой шаг, чтобы стать первым. Дорожающие ресурсы требуют все более производительного использования. Их расход на единицу продукта неуклонно снижается а, если это становится невозможным, то активно идет поиск нахождения альтернативы. Вот почему, миф о «вечно дорожающей нефти» так и останется мифом. История знает много примеров «вечных ресурсов», одно время это была медь, затем алюминий, но об этом уже мало кто помнит. Замена дорожающему ресурсу находится всегда.
Еще одной особенностью равновесного подхода является сложность определения относительных цен, когда количество факторов производства превышает единицу:
pQ = wL + rK,
где L- труд, K- капитал, w- стоимость труда, r- стоимость капитала. Имеем одно уравнение и три неизвестных (p, w, r). Относительные цены определить невозможно. Действительно, сколько стоит станок, если после его приобретения прибыль по-прежнему равна нулю? Сколько стоит завод, работающий при нулевой рентабельности? В условиях экономического роста картина меняется:
d(pQ) = d(wL) + d(rK).
При слабом изменении цены на один ресурс и неизменности второго ресурса получаем известное определение цены ресурса, как отношение предельного продукта к предельному количеству ресурса:
w = d(pQ)/dL, r = d(pQ)/dK.
Теперь любой участник рынка с легкостью может определить стоимость труда или станка.
Заметим, что в условиях равновесия:
d(pQ) = Qdp + pdQ = 0, а следовательно, dQ/dp = -Q/p,
значит кривая спроса имеет нисходящий характер с изменяющимся углом наклона: при p, стремящемся к бесконечности, угол наклона к оси цен будет стремиться к нулю, а при Q, стремящемся к нулю, угол наклона к оси спроса будет также нулевым. Легко убедиться, что в условиях экономического роста кривая спроса может иметь как нисходящий, так и восходящий характер, что, действительно, мы часто наблюдаем в реальной жизни. Характер кривой зависит от соотношения между скоростью изменения цены и экономическим ростом.
Преобразовав последнее выражение в pdQ/Qdp = -1, убеждаемся, что при равновесии эластичность спроса по цене для любого товара равна единице. Отличной от единицы эластичность может быть только в условиях растущего или стагнирующего рынков.
Еще одно замечание, в период внедрения инноваций и восходящего экономического роста компании увеличивают прибыль, в основном, за счет повышения производительности имеющихся ресурсов (Ldw, Kdr). Поэтому занятость и спрос на инвестиционные товары растет умеренно. Но все меняется при затухающем экономическом росте, когда компании, стремясь сохранить падающие прибыли, резко увеличивают спрос на еще свободные трудовые ресурсы и капитал, что серьезно сокращает безработицу и расширяет производство. С другой стороны, такие действия провоцируют инфляцию издержек и спроса. В условиях затухания экономического роста искусственное повышение правительствами уровня инфляции ничего кроме краткосрочного повышения занятости не принесет. Дальнейшее развитие событий уже предрешено: экономика вступает в период депрессии или равновесия.
Последнее замечание, страны, имеющие избыточные ресурсы в виде населения, природных ископаемых, свободных территорий, могут длительное время развиваться за счет привлечения все новых ресурсов (wdL, rdK), не особо заботясь об увеличении производительности. Такое экстенсивное развитие возможно только при достаточной закрытости экономики, которая не позволяет иностранным компаниям предъявлять спрос на имеющиеся ресурсы и, тем самым, увеличивать стоимость последних. Подобное положение вещей, именуемое как «ресурсное проклятие», способно надолго затормозить технологическое развитие и серьезно сократить экономический рост. Нечто похожее происходит на монополизированных рынках. И здесь низкопроизводительному использованию ресурсов может помешать только альтернативное потребление тех же ресурсов другими секторами, что должно, в итоге, привести к внедрению монополией инноваций и повышению эффективности.
СТАТЬИ >> РАЗНОЕ
Дисперсионный и регрессионный анализ эмпирических данных
В статье рассматриваются подходы статистического анализа эмпирических данных полученных в результате исследования экономических процессов, протекающих в обществе. Приведен пример планирования эксперимента, предложен формат представления данных, а также порядок построения полного факторного эксперимента.
В статье рассмотрены примеры построения математических моделей носящих вероятностный характер, и проведено их исследования с помощью предложений регрессионного и дисперсионного подходов к анализу данных. Приведены примеры выводов и рекомендаций, полученных на основе исследований реальных моделей, дано краткое описание необходимых уравнений и следствий из них. Следует заметить, что представленные в статье модели носят иллюстрирующий характер, для более детального их исследования требуется более тщательная детализация.
Характерной чертой для современного уровня развития социологической и экономической науки, а также их приложений является все более широкое применение статистических методов анализа тех или иных экономических или социологических процессов. Подобные методы могут быть использованы при анализе влияния на деятельность предприятия различных факторов (внешних, внутренних) и позволяют определить их значимость. Необходимость использования этих методов связано с тем, что изучение явлений окружающего мира, становясь более глубоким, требует выявления не только основных закономерностей, но и возможных случайных отклонений от них. Наука все больше внедряется в такие области практики, где наличие и большое влияние именно случайности не подлежит сомнению, а иногда является определяющим. В настоящее время нет практически ни одной области науки, в которой в той или иной степени не применялись бы методы статистического анализа, в частности данные методы, позволяют принимать эффективные решения при проведении маркетинговых исследований предприятия.
В силу своих особенностей маркетинг требует эффективного управления [1], но те же самые особенности маркетинга делают его управление чрезвычайно трудным. Принятие решений – это выбор альтернатив. Оно предполагает наличие адекватной информации, цель которой – уменьшить неопределенность в отношении последствий принятых решений. Решение о внедрении продукта на рынок может либо повлечь за собой убытки, либо привести к росту прибыли, не менее важны исследования вопросов связанные с взаимодействие подсистем предприятия. Современная концепция управления в маркетинге состоит в том что, управление – это анализ, планирование, организация и контроль, за проведением, маркетинговых мероприятий, а ее задача заключается в воздействии на уровень, время и характер спроса для достижения целей. Статистические методы анализа данных могут с успехом применятся в социальных сферах, с их помощью можно анализировать деятельность кадровых агентств, анализировать данные предвыборных политических компаний.
Основу любой системы анализа маркетинговой информации составляет статистический банк и банк моделей. Статистический банк включает в себя совокупность современных методик статистической обработки информации, позволяющих наиболее полно вскрыть, взаимозависимости в рамках подборки данных и установить степень статистической надежности. Методики обработки информации включают методы регрессионного, корреляционного, дисперсионного, факторного, гнездового подходов к анализу математических моделей и другие математико-статистические методы позволяющие анализировать модели, носящие вероятностный характер различных областей знаний, в частности моделей деятельности предприятий. Анализ можно проводить в реальном времени, и анализировать деятельность на будущее, используя аппарат временных рядов. В начале исследования необходимо выделить значимые факторы, те явления, которые оказывают существенное влияние на модель.
Например, если с помощью регрессионного анализа исследуется влияние на прибыль Y предприятия по производству упаковочной продукции, факторов: Х1-затраты на рекламу, Х2-затраты на модернизацию производства, Х3- затраты на расходные материалы, факторов может быть сколь угодно много в общем случае ![]() по каждому из факторов набрана статистика за определенный период времени, исследованию подвергаются генеральные совокупности или выборки из них. Модели могут иметь следующий вид. Общая линейная модель будет представлена в виде [17],
по каждому из факторов набрана статистика за определенный период времени, исследованию подвергаются генеральные совокупности или выборки из них. Модели могут иметь следующий вид. Общая линейная модель будет представлена в виде [17],
![]() (1)
(1)
модель может быть квадратичной
![]() (2)
(2)
содержать смешанные взаимодействия факторов
![]() (3)
(3)
где
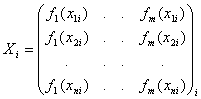 матрицы наблюдений;
матрицы наблюдений;
![]() выборка из генеральной совокупности, данные эксперимента,
выборка из генеральной совокупности, данные эксперимента,
![]() вектор неизвестных параметров в модели, e ошибка.
вектор неизвестных параметров в модели, e ошибка.
Уравнения 1-3, представляют собой функциональную зависимость прибыли Y от факторов ![]() . В качестве функций
. В качестве функций ![]() могут выступать любые непрерывные функции, например экспонента или логарифм, их выбор зависит от конкретных эмпирических данных, априорной информации.
могут выступать любые непрерывные функции, например экспонента или логарифм, их выбор зависит от конкретных эмпирических данных, априорной информации.
Далее следует процедура оценки неизвестных параметров ![]() , обычно оценку проводят с помощью метода наименьших квадратов (МНК) [11]. Рассмотрим метод наименьших квадратов в свете того, что он, по сути, является частным случаем метода максимального правдоподобия. В методе также приходиться решать оптимизационную задачу, искать минимум специальной функции, которая строится следующим образом, формула
, обычно оценку проводят с помощью метода наименьших квадратов (МНК) [11]. Рассмотрим метод наименьших квадратов в свете того, что он, по сути, является частным случаем метода максимального правдоподобия. В методе также приходиться решать оптимизационную задачу, искать минимум специальной функции, которая строится следующим образом, формула
![]() (4)
(4)
где
![]() – функция распределения,
– функция распределения,
![]() - эмпирическая функция распределения.
- эмпирическая функция распределения.
Вычисление оценок МНК не требует, вообще-то говоря, введения каких-либо дополнительных гипотез. Сам метод часто рассматривают как способ «разумного» выравнивания эмпирических данных. Однако судить об адекватности модели, об ее прогностической способности удается лишь за счет введения априорных сведений, зафиксированных в предпосылках классической регрессии. Вообще говоря, просто оценить параметры недостаточно, необходимо, что бы полученные оценки обладали свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности [10]. Итак, в результате проведения оценки параметров регрессионной модели получены значения ![]() вектора оценок параметров
вектора оценок параметров ![]() . Теперь уравнения 1-3 подставляем в виде, соотношение 5,
. Теперь уравнения 1-3 подставляем в виде, соотношение 5,
![]() (5)
(5)
Теперь оцененную модель можно использовать для прогнозирования прибыли, взяв в качестве значений факторов желаемые значения. На основе проведенного анализа делаются выводы, предлагаются рекомендации, приведем пример.
Если на рекламную компанию тратить менее 24 тысяч рублей в месяц, то увеличение объема производства влечет за собой увеличение убытков. Следовательно, на рекламу нужно тратить больше 24 тысяч рублей. Реклама вносит наибольший вклад в прибыль. Увеличение расходов на модернизацию, влечет за собой увеличение прибыли. Сумма по всем трем факторам будет ограничиваться предыдущей прибылью. Так как параметр ![]() при факторе
при факторе ![]() - расходы на рекламу имеет наибольшее значение, следовательно, для развития предприятия в данный момент времени приоритетным является увеличение расходов на рекламу. Распределение оставшейся части денег между модернизацией и затратами на расходные материалы будет определяться количеством затраченных денег на рекламу, а также объемами производства и возможностью проведения модернизации. Выводы сделаны на основе реальных эмпирических данных, при исследовании модели предложенной в уравнениях 1-3. Необходимо отметить, что при построении модели факторы должны носить количественный характер (рубли, килограммы и т.п.).
- расходы на рекламу имеет наибольшее значение, следовательно, для развития предприятия в данный момент времени приоритетным является увеличение расходов на рекламу. Распределение оставшейся части денег между модернизацией и затратами на расходные материалы будет определяться количеством затраченных денег на рекламу, а также объемами производства и возможностью проведения модернизации. Выводы сделаны на основе реальных эмпирических данных, при исследовании модели предложенной в уравнениях 1-3. Необходимо отметить, что при построении модели факторы должны носить количественный характер (рубли, килограммы и т.п.).
Если факторы в модели носят качественный характер (штуки, люди, количество чего либо и т.п.) то удобно применять методы дисперсионного анализа, пусть мы исследуем модель, описанную уравнением 1, в котором положим;
![]() - вектор значений отклика,
- вектор значений отклика,
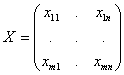 - матрица наблюдений (значений) соответствующих факторов,
- матрица наблюдений (значений) соответствующих факторов, ![]() - вектор неизвестных параметров,
- вектор неизвестных параметров, ![]() - вектор ошибок измерений. При построении модели необходимо четко представлять, сколько факторов мы используем и сколько уровней имеет каждый фактор, например для исследования мы выделили три фактора это возраст, образование и пол людей приходивших в кадровое агентство с целью поиска работы, каждый фактор был представлен уровнями
- вектор ошибок измерений. При построении модели необходимо четко представлять, сколько факторов мы используем и сколько уровней имеет каждый фактор, например для исследования мы выделили три фактора это возраст, образование и пол людей приходивших в кадровое агентство с целью поиска работы, каждый фактор был представлен уровнями
Таблица 1 − Смысловое представление модели «Кадровое агентство»
| Фактор | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 |
| Возраст | 20-30 лет | 30-40 лет | 40-50 лет |
| Образование | Общее | Среднее специальное | Высшее |
| Пол | Мужской | Женский |
После этого по каждому уровню всех факторов необходимо набрать статистику, для составления плана эксперимента, для более полного и качественного анализа необходимо составить полный факторный эксперимент (ПФЭ). ПФЭ это всевозможные комбинации уровней факторов. Далее проводим оценку параметров, учитывая то, что матрица ![]() , в общем случае имеет дефект ранга, следовательно, придется использовать метод псевдообращения матриц, необходимо решить следующую систему уравнений [16],
, в общем случае имеет дефект ранга, следовательно, придется использовать метод псевдообращения матриц, необходимо решить следующую систему уравнений [16],
![]() (6)
(6)
откуда получаем
![]() (7)
(7)
где ![]() , z- произвольный вектор.
, z- произвольный вектор.
Таких оценок, вообще говоря, бесконечность и такие оценки являются смещенными, но существуют линейные комбинации вида ![]() , для которых оценки
, для которых оценки ![]() являются несмещенными, такие оценки называют функциями допускающими оценку (ФДО). ФДО также бесконечность, но существует базис, относительно которого можно построить любую ФДО. Для ПФЭ можно априорно предложить базис ФДО и преобразовать модель к модели полного ранга, применяя следующую процедуру.
являются несмещенными, такие оценки называют функциями допускающими оценку (ФДО). ФДО также бесконечность, но существует базис, относительно которого можно построить любую ФДО. Для ПФЭ можно априорно предложить базис ФДО и преобразовать модель к модели полного ранга, применяя следующую процедуру.
Пусть ![]() матрица наблюдений соответствующая ПФЭ, с числом наблюдений
матрица наблюдений соответствующая ПФЭ, с числом наблюдений ![]() , где
, где ![]() - число уровней фактора
- число уровней фактора ![]() . Проведем факторизацию матрицы наблюдений
. Проведем факторизацию матрицы наблюдений ![]() , выполнив преобразование
, выполнив преобразование
![]() (8)
(8)
где матрица ![]() размерности
размерности ![]() обладает полным рангом по столбцам,
обладает полным рангом по столбцам,
матрица ![]() размерности
размерности ![]() обладает полным строчным рангом.
обладает полным строчным рангом.
При этом уравнение наблюдений преобразуется к виду 9,
![]() (9)
(9)
где ![]() - вектор ФДО. Модель 9, будет моделью полного ранга, которую рекомендуется взять в качестве исходной.
- вектор ФДО. Модель 9, будет моделью полного ранга, которую рекомендуется взять в качестве исходной.
После проведения анализа с помощью дисперсионного анализа, для модели представленной в Таблице 1, получили например следующие выводы и предлагаем рекомендации.
1) В результате анализа установлено, что на отклик существенно (значимо) влияет фактор X2 (образование). Парные взаимодействия факторов не оказывают существенного влияния на результат эксперимента. Остаток значим. Это свидетельствует о том, что выбранная модель неадекватно описывает экспериментальные данные и нуждается в уточнении.
2) Установлено, что на отклик существенно (значимо) влияет фактор X2 (образование). У фактора X2 (образование) значимо различаются эффекты уровней 1 (общее образование) и 3 (высшее образование), 2 (среднее образование) и 3 (высшее образование), причем уровню 1(общее образование) соответствует наибольшее среднее значение отклика, а уровню 3 (высшее образование) - наименьшее среднее значение отклика.
Различие между эффектами других уровней незначимо.
3) Наибольшее среднее значение отклика наблюдается на 1 - м уровне фактора X2;
наименьшее среднее значение отклика наблюдается на 3 - м уровне фактора X2; влияние остальных факторов несущественно, т.е. различие между средними значениями отклика для различных уровней этих факторов незначимо. Уровни фактора X2 в порядке убывания среднего значения отклика образуют последовательность: уровень 1 (общее), уровень 2 (среднее специальное), уровень 3 (высшее).
Результаты были получены исходя из реальных данных кадровых агентств.
Сделаны следующие выводы:
Необходимо дополнительно уточнять данные эксперимента, проводить исследования более длительный период, используя статистику по нескольким агентствам одновременно.
Выяснилось, что наиболее существенное значение оказывает фактор 2 (образование), чаще всего в агентства обращаются люди, имеющие только общее образование, они чаще всего ищут временную работу. Рекомендуем организацию курсов обучения и последующего трудоустройства данной категории граждан. Другие факторы возраст и пол оказывают слабое влияние на предложенную модель.
Цель статистического анализа в том, чтобы, минуя слишком сложное, зачастую практически невозможное исследование отдельного случайного явления, обратится непосредственно к законам, управляющими массами таких явлений. Изучение законов позволяет осуществлять прогноз в области случайных явлений и целенаправленно влиять на ход таких явлений, контролировать их, ограничивать сферу действия случайности, сужать влияния случайности на практику, решать практические задачи управления и контроля предприятия.
Перед исследователем, применяющим статистический подход при проведении маркетинговых исследований, ставятся задачи описания явлений, анализа и прогнозов, выработка оптимальных решений. Во время решения возникающих задач необходимо использовать соответствующее программное обеспечение, что позволят существенно увеличить объем и сложность обрабатываемой информации, при этом быстро и своевременно получать необходимые данные, делать выводы, принимать решения, опережая конкурентов.
Несмотря на то, что необходимость применения статистических методов исследования велика, имеется много разработок в области прикладного программного обеспечения для их реализации, в частности подобные пакеты программ разрабатываются специалистами в области прикладной математики. Следует заметить, что подобные методы на практике используются редко, так как требуют некоторой специальной подготовки специалистов экономического профиля различного уровня.
Рекомендуемая литература
1. Виханский О.С., Стратегическое управление. - М.: Изд-во МГУ, 1995.
2. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. - М.: Прогресс, 1982
3. Маркова Е.В., Денисов В.И., Полетаева И.А., Пономарев В.В. Дисперсионный анализ и синтез планов на ЭВМ. – М.:Наука,1982.
4. Шеффе Г. Дисперсионный анализ. – М.:Физматгиз,1963.
5. Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента. – М.:мир,1967.
6. Рао С.Р. Линейные статистические методы и их применение. – М.:Наука, 1968.
7. Браунли К.А. Статистическая теория и методология в науке и технике. – М.:Наука,1977.
8. Денисов В.И., Полетаева И.А., Хабаров В.И. Экспертная система для анализа многофакторных объектов. – Новосибирск.: НЭТИ,1992.
10. Лемешко Б.Ю. Статистический анализ одномерных наблюдений случайных величин – НГТУ Новосибирск 1995. – 125с.
11. Лемешко Б.Ю. Курс лекций по методам оптимизации – НГТУ Новосибирск 1999.
12. Кокс Др., Оукс Д. Анализ данных типа времени жизни.
13. Крамер Г. Математические методы статистики. – М: Мир 1975. – 648с.
14. Кендалл М., Стюарт А. Статистические выводы и связи. – М: Наука. – 900с.
15. Губарев В.В. Вероятностные модели: Справочник. В 2-х ч. НГТУ – Новосибирск, 1992. – 422с.
16. Денисов В.И., Попов А.А. Условия оптимальности в алгоритмах в сингулярном планировании. Межвузовский сборник научных трудов. Применение ЭВМ в оптимальном планировании и проектировании. – Новосибирск 1981.- 199с.
17. Попов А.А. Курс лекций по статистическим методам анализа данных- НГТУ Новосибирск 1999.
СТАТЬИ >> ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, HR
Типология власти
Власть рассматривается в менеджменте и управлении как многомерное явление, включающее несколько основных форм — разновидностей, которые могут использоваться руководителем и по отдельности, но чаще — в сочетании друг с другом.
Власть принуждения основана на том, что руководитель имеет возможность наказывать, препятствовать достижению целей и потребностей исполнителей. Они, в свою очередь, это сознают и вынуждены, вследствие этого, подчиняться. Иногда эту форму власти обозначают как «негативная власть» или «власть страха». Несмотря на то что «власть принуждения» — излюбленный объект критики теоретиков управления (из-за ее «негуманности»), именно она ставится на первое место в любом перечне форм власти и остается пока незаменимой («к сожалению» или «к счастью» — это другой вопрос), а иногда — и единственным властным рычагом воздействий руководителя. Она уязвима для критики, но является жесткой реальностью практики управления.
К числу основных недостатков этой формы власти относится ее «дороговизна» — она требует разветвленной и громоздкой системы контроля. Кроме того, принуждение производит нежелательные эффекты — скованность, страх, месть, отчуждение. Это, в свою очередь, может привести к более низкой производительности труда, неудовлетворенности работой и большой текучести кадров. Однако оно обладает и очень большой силой, поскольку апеллирует к чувству личной безопасности. В связи с этим в теории управления существует понятие организационных страхов (или «страхов на рабочем месте»). Главными среди них являются следующие.
Страх потерять работу. Он в условиях избыточности рынка труда является очень сильным побудительным мотивом к высокой интенсивности работы. Однако человек, находящийся под постоянным давлением этого страха, не может испытывать высокой удовлетворенности от работы; страх оказывает парализующее воздействие, и производительность может, в конечном итоге, резко снижаться. Для управленческой деятельности он трансформируется в «страх потерять должность». Более того, во многих, особенно — крупных организациях, он используется как преднамеренное и достаточно сильное средство давления на руководителей низшего и среднего звена. Создается и культивируется атмосфера перманентной ротации (замены) управленческого персонала, нестабильности должностного положения, постоянной угрозы замены.
Страх не справиться с работой. Он в той или иной мере сопряжен с любой профессиональной деятельностью, но в особенности характерен для управленческой деятельности. Ей свойственно «нагромождение» дел и обязанностей; они «наваливаются» на руководителя — так, что он уже чувствует себя не хозяином, а рабом своей работы. При этом давление со всех сторон нарастает, люди напирают, сроки поджимают и появляется искушение работать сразу по всем проблемам. Это еще больше усугубляет ситуацию, возникают систематические срывы, превращающиеся в хронические. В результате уже само по себе обилие дел превращается в травмирующий фактор, воспринимается угрожающе.
Страх допустить ошибку. Необходимость постоянно «быть на высоте», безупречно выполнять свою работу и быть лучше, чем все иные члены группы (организации) — все это свойственно позиции руководителя. Ему труднее, нежели другим, признавать свои ошибки, поскольку это вредит авторитету, сказывается на статусе и влиянии. В результате возникает сильная эмоциональная напряженность, связанная с боязнью допущения ошибок.
Страх быть обойденным другими. Большинству людей свойственно стремление продвинуться вверх по служебной лестнице. Однако не все имеют возможность для этого и по-разному реагируют на неудачи. Одни испытывают разочарование, впадают в апатию, спасаются «бегством в болезнь». Другие проявляют повышенную активность, улучшают качество работы. Однако для подавляющего большинства людей, в особенности — руководителей, типична установка «быть не хуже, а желательно — лучше, чем другие». Если она не реализуется, возникают стойкие и негативные эмоциональные состояния и реакции. Любая же ситуация, любое развитие событий, потенциально угрожающие реализации этой установки, провоцируют возникновение страха данного типа.
Страх потерять собственное «Я». При современном разделении труда человек часто не видит результатов своей работы; он не ощущает реализации своего «Я» в результатах труда, что приводит к утрате чувства реализации себя и самоактуализации. Возникает чувство бессмысленности работы, «феномен пустоты»; человек начинает бояться работы как таковой. Хотя для управленческой деятельности данный вид страха менее типичен, он все же наблюдается в крупных, сильно бюрократизированных организациях, когда даже руководителю (среднего и особенно — низового звеньев) трудно различить смысл своего функционирования в системе и понять, почувствовать свой личный вклад в результаты ее работы.
Власть вознаграждения основана на том, что руководитель может оказывать положительное подкрепление результатов работы, поскольку в его руках сосредоточены основные возможности распределения субъективно значимых для исполнителей стимулов. Эта власть прямо пропорциональна тому, насколько имеющиеся у руководителя стимулы являются действительно ценными для исполнителей. Основное преимущество этого вида власти — в его силе; недостаток — в том, что очень часто руководитель имеет весьма ограниченные возможности для позитивного подкрепления результатов работы исполнителей по сравнению с их ожиданиями.
Экспертная власть как власть через разумную веру в руководителя. Исполнители часто считают, что руководитель обладает наибольшей степенью профессиональной компетентности, способной реализовать цели организации и значит — их собственные. Ему поэтому надо не только доверять, но и подчиняться, поскольку это, в конечном итоге, будет залогом достижения их личных целей и потребностей. Мера этой власти возрастает при усложнении характера систем управления, а также при реально высокой и ощущаемой подчиненными квалификации руководителя. Она более значима в децентрализованных системах управления. К ее недостаткам следует отнести меньшую устойчивость, меньшую в целом, чем для первых двух видов, силу и надежность. Она, кроме того, доступна далеко не всем руководителям. Наоборот, часто она действует как бы «с обратным знаком» (в случае недостаточной профессиональной компетентности руководителя); ее приходится компенсировать другими типами власти.
Харизматическая власть, или власть примера, построена не на логике и не на разумной вере, а на традиции и силе личных качеств и особенностей лидера. Она определяется отождествлением исполнителя с лидером, руководителем или влечением к нему. Харизматическое влияние — это личностное, а не должностное влияние. Выделяются несколько типичных качеств харизматической личности:
- обмен энергией: для харизматической личности свойственно заряжать своей энергией окружающих;
- внушительная внешность: эта личность не обязательно является эталоном красоты, но обязательно — носителем каких-либо броских, необычных, часто действующих на подсознательном уровне качеств;
- независимость характера;
- хорошие риторические способности (как ораторские, так и «умение говорить с народом на языке народа»);
- восприятие восхищения своей личностью: они испытывают комфорт только тогда, когда другие по достоинству оценивают их, и требуют такого к себе отношения;
- достойная и уверенная манера держаться.
Родственные понятия харизматической власти, власти примера и власти, основанной на безусловном принятии руководителя, объединяются более общим понятием эталонной власти.
Законная, или традиционная, власть основана на том, что руководитель обладает системой правовых, производственных рычагов воздействия на подчиненных, которые законодательно закреплены в его статусе и должностных обязанностях. Исполнители предельно четко сознают это, признают право руководителя реализовывать в отношении них, законодательные меры воздействия. Иными словами, это — своеобразный «договор» между руководителем и исполнителями, согласно которому между ними устанавливаются властные отношения. Законная власть часто принимает форму традиционной власти. Исполнители реализуют указания руководителя потому, что традиция учит: подчинение ведет к удовлетворению потребностей.
Власть информации. Люди испытывают постоянную потребность в самой различной информации. Руководитель же, как правило, не только регулирует доступ информации к своим подчиненным, но обычно обладает значительно большей, чем они, информацией. Суть этого вида власти можно проиллюстрировать известным выражением «кто владеет информацией, тот владеет и ситуацией». Кроме того, человек, располагающий большей информацией (руководитель), обладает и объективно большими возможностями для эффективного поведения. Это, в свою очередь, повышает меру его компетентности в глазах других людей и ведет к укреплению его экспертной и эталонной власти.
Все рассмотренные формы власти, как правило, сочетаются в деятельности руководителя, а одним из важнейших его профессиональных качеств является не только комплексная опора на все эти формы, но и их «дозировка» в зависимости от ситуации, от того (тех), в отношении кого они используются. Это качество является также основой для формирования интегрального управленческого образования — авторитета руководителя. Помимо того, что авторитет выступает как бы обобщенным — интегративным проявлением властных полномочий и личностных качеств руководителя, он является продуктом достаточно длительного взаимодействия руководителя и исполнителей. Поэтому важной стороной и регулятором управленческой деятельности оказываются такие способы поведения руководителя, которые специально направлены на формирование и укрепление авторитета. Такие способы поведения в определенных границах являются оправданными. Однако их гипертрофия может приводить к тому, что завоевание и укрепление авторитета превращается в самоцель. Исходя из известного положения о том, что «сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет — на тебя», руководитель соответствующим образом строит и свое поведение. В этом случае могут возникать побочные — негативные эффекты, главным из которых является феномен так называемого псевдоавторитета. Он имеет несколько разновидностей.
- Авторитет расстояния проявляется в том, что руководителю кажется, будто чем дальше он от подчиненных, чем реже он с ними видится и официальнее держится, тем сильнее его влияние на них.
- Авторитет резонерства. Такие руководители надоедают подчиненным бесконечными назиданиями, скучными и бессодержательными поучениями, ошибочно полагая, что это усилит их влияние на людей.
- Авторитет подавления является, как отмечал А.С. Макаренко, «самым диким». Его стремятся достичь обычно руководители с низким культурным уровнем. Их основное оружие — непрерывные угрозы применения власти в целях насаждения перманентного страха.
- Авторитет педантизма означает склонность руководителя к мелочной опеке, к излишне жесткой регламентации таких деталей работы исполнителей, которые не имеют отношения к его функциям, а часто — к делу вообще.
- Авторитет чванства строится на высокомерии руководителя, чрезмерном тщеславии и гордости, на мнимых, но иногда — и имевших место в прошлом (но там и оставшихся) заслугах. Человеку кажется, что, «взлетев однажды на высоту», он там должен автоматически остаться навсегда, а любые его действия должны быть поэтому вне критики.
- Авторитет доброты проистекает из ложного понимания сущности внимательного отношения к подчиненным и основывается на низкой требовательности к ним (явление «добренького руководителя»).
- Авторитет подкупа обнаруживается тогда, когда руководитель следует правилу «ты мне — я тебе». Деловые отношения превращаются в личные и принимают форму личной преданности.